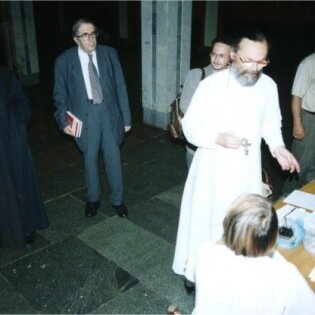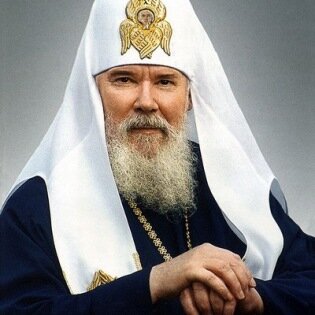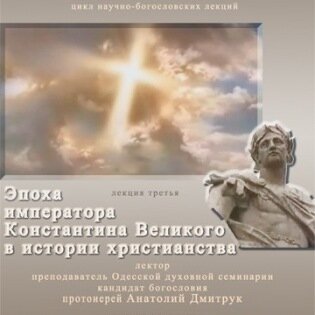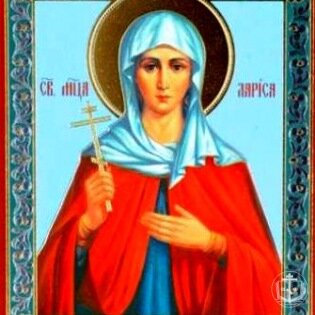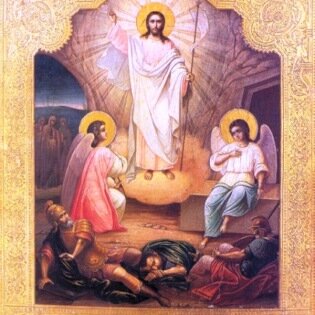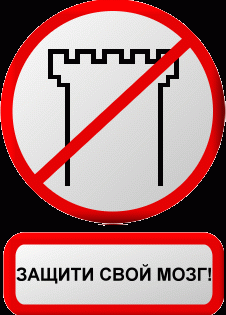Сергей Аверинцев: свидетельство правды в эпоху тоталитаризма
Аверинцев считал «своей средой» московскую и ленинградскую интеллигенцию, «своим временем» – 60-70-е годы. Это была эпоха, когда советская пресса бодро заявляла об успехах партии на всех фронтах и о «почти» достигнутом коммунизме. Но среди жителей СССР была популярна шутка: «Скажите – это уже коммунизм или будет еще хуже?» Конечно, репрессивная политика в отношении Церкви была «хуже» и жестче в 30-е годы, но хрущевская «оттепель» разбила все надежды оккупацией Чехословaкии в 68-м, не принесла ожидаемого смягчения и позиция относительно верующих, напротив, это был регресс по сравнению со сталинской послевоенной политикой. Как отмечает сам Аверинцев, советская власть неожиданно стала заботиться о своём религиозном имидже на международной арене, всячески втягивать Церковь в экуменическое движение.
Именно вынужденным следованием «внецерковным директивам» исследователи объясняют резкую смену курса РПЦ относительно Всемирного Совета Церквей, попытку временного одобрения интеркоммуниона (полного евхаристического общения, невзирая на конфессиональные барьеры): по мнению Хрущова, присутствие во ВСЦ архиереев должно было отвлекать мировую общественность от гонений на христиан внутри самого СССР. Тем временем в Союзе давление на верующих лишь увеличивалось. Настоящий прессинг на верующих начался в конце 50-х годов, когда стали закрываться семинарии, храмы и монастыри, ликвидировались монастырские гостиницы с целью пресечения практики паломничества, возрос налог на Церковь (например, свечной; это привело приходы в состояние нищеты – часто даже певчим не было чем платить), запретили клиру заниматься благотворительностью. Священнослужителей и активных прихожан стали арестовывать (по выдуманным обвинениям, например, за неуплату налога и пр.), но чаще принудительно «лечить». К середине 60-х годов численно почти в 5 раз сократилось духовенство. Из известного послания группы ленинградских верующих зарубежным русским религиозным организациям 1963 года видно также, что было запрещено посещения паствы и совершения треб на дому; Крещение, Отпевание и Венчание совершались теперь лишь после регистрации у старосты и взноса крупной суммы денег (для компрометации духовенства и сокращения треб). В поселения, где нет храмов, запретили вызывать священнослужителя из другого города (посёлка, села). Священники могли совершать Таинства лишь при наличии регистрации (в противном случае им грозила тюрьма или принудительное лечение в психиатрических больницах). В апреле 1963 года запретили Причастие детей школьного возраста (приписывалось при необходимости силой удалять детей из храмов).
Все бесчинства советской власти относительно Церкви всё же становились известны за рубежом, как не пытался режим «сохранить лицо». Так, например, в марте 1964 года на митинге в Париже французский писатель, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак, заявил: «Когда Христа распинают в Москве, мы слышим в Париже Его стон на Кресте».
Но как сказал немецкая коллега Аверинцева после визита в СССР, «У вас везде стена, но в стене всегда есть дырка». На фоне того, что епархиями фактически стали управлять уполномоченные Совета, на фоне того, как монахов водомётами «выдавливали» из монастырей и закрывали в «психушках» (как это было, например, с почаевскими), наметилось значительное обращение интеллигенции в христианство. В 60-е годы начинается проповедь отца Александра Меня – Алабино, позже Тарасовка, где служил батюшка, становится центром стечения интеллигентов из разных уголков Союза. Всё популярнее проповеди приезжавшего из Лондона митрополита Антония Сурожского, потом тайно тиражируемые на аудиозаписях и самиздатовских рукописях. В интеллигентских кругах авторитетны и о. Всеволод Шпиллер, о.Николай Голубцов, о.Александр Анисимов, о.Дмитрий Дудко и др. Постепенно складывается феномен советского христианского мыслителя. Так, в 70-е годы заявляет о себе православная философиня Татьяна Горичева, организовавшая христианское женское движение, выпускавшее журналы «Женщина и Россия», «Мария», организовавшее посещение арестованных диссидентов, выступавшее против войны в Афганистане и пр. Значим сам факт возникновения круга мыслителей, которые ломали узкие рамки философии марскизма-ленинзма: А.С.Аверинцев, П.П.Гайденко, М.Маммардашвили, А.М.Пятигорский, В.В.Бибихин, пишущий до 90-х гг. «в стол», В.В.Бычков и пр. Начинается эпоха «нового Ренессанса» в истории советской культуры. Объектом возрождения оказалась память. Из «закромов» гуманитаристики стали поднимать проблематику, которая десятилетия была табуирована (в том числе и христианское наследие).
Среди этого поколения мыслителей Аверинцев выделялся особо. Как позже напишет Ольга Александровна Седакова, «это был человек, которого давно ждали». Впервые громко заявил о себе Сергей Сергеевич монографией «Плутарх и античная биография: к месту классика жанра в истории жанра», которую в 1967 году он защитил в качестве кандидатской диссертации (изданный в книжном варианте только в 1973). Удивительно, но за эту столь «неформатную» для советского времени работу автор был удостоен премии Ленинского комсомола, присуждение которой на долгие годы фактически стало для него защитным фактором. В 1979 году состоялась защита его прославленной в последствии докторской диссертации «Поэтика ранневизантийской литературы», причём оппонировали Аверинцеву две знаковые в истории русской культуры фигуры: Алексей Лосев и Дмитрий Лихачёв. Показательно, что диссертант умудрился ни разу и не упомянуть ни Карла Маркса, ни В.И. Ленина. Но уже творческий дебют сделал Аверинцева 1967 года фактически сразу одной из центральных фигур культурного процесса, даже его современники оценили масштаб этой личности. «Зачем еще нужно что-то делать и зачем я, когда есть Аверинцев», – говорил его ученик, выдающийся философ и переводчик В.В. Бибихин. «Не помню кто, не то Аристотель, не то Аверинцев сказал...» – эта шутка из скетча Венедикта Ерофеева дает понять масштаб этой популярности мыслителя конца 60-начала 70-х годов. В этот период, по замечанию Т.Миллер, «Сергей Аверинцев писал и публиковал статьи в главных энциклопедических изданиях (Большая советская энциклопедия, Краткая литературная энциклопедия, Философская энциклопедия) и читал лекции по византийской и античной эстетике на историческом и философском факультетах МГУ, а также публичные лекции в разных местах». Причём ажиотаж на этих лекциях столь высок, что Аверинцев даже сам не мог пробиться к трибуне лектора среди толпы желающих его послушать в университетских коридорах, аудитория не вмещала всех слушателей – приходилось их размещать в соседних аудиториях и использовать громкоговоритель. Публика при этом была самой разнообразной: литературоведы, историки, семинаристы, академисты и пр. Как вспоминал священник Георгий Чистяков, «Сергей Сергеевич был первым в Москве человеком, в своих университетских лекциях открыто заговорившим о Боге. Осенью 1970 года он читал их по субботам в новом тогда здании на Воробьёвых горах в огромной аудитории, где тогда яблоку было негде упасть. Его византийская эстетика, основанная на самом высоком и в высшей степени профессиональном филологическом анализе, была в то же время настоящей проповедью Слова Божьего и христианской веры. Каждому слушателю из этих лекций сразу становилось ясно, что лектор не просто знает Евангелие и святоотеческую традицию, но сам верит в Бога».
Попытаться охарактеризовать одним понятием всю палитру деятельности Аверинцева практически невозможно: литературовед, византинист, переводчик (знал 6 языков), философ, богослов, поэт, историк культуры. Сергей Сергеевич Аверинцев с юных лет поражал своей энциклопедической эрудированностью. Его супруга, Наталья Павловна, с юмором вспоминала, что, будучи студенткой, впервые увидела Аверинцева на кафедре на филфаке в Московском университете. Присутствовавший там Александр Николаевич Попов представил: «Вот этот Сергей Сергеевич Аверинцев очень ученый муж». Наталья Павловна «посмотрела, увидела мальчика и была потрясена тем, что он так о нем сказал. Сергею Сергеевичу было тогда 19 лет». Нередко учёного со столь широким кругом интересов обозначают как «культуролог». А то и ещё более общо «гуманитарий». Но сам Аверинцев не любил этих понятий. Сам себя нередко называл «филологом» (как «любящий Слово»). Для Аверинцева после его обращения становятся принципиально значимыми слова евангелиста: « Вначале было Слово». Словесность бытия для него онтологична и тесно связана с общением: «Творец приводил творение в бытие тем, что окликал вещи… заговаривал с ними… Бытие – это пребывание внутри разговора, внутри общения». Отсюда такая трепетность к слову, внимание к грамматике, стилистике, поэтике, которая некоторым его современникам казалась непонятной. Достаточно вспомнить, что Алексей Фёдорович Лосев, которого (наряду с Вячеславом Ивановым) Аверинцев называл своим «учителем», ценивший своего ученика, тем не менее говорил: «Зачем он занимается такими пустяками, как риторика?!» Для Аверинцева духовное актуализируется через слово.
Кстати, если анализировать сам феномен интеллектуалов-«диссидентов» этой эпохи, то это было не столько «инакомыслие» (львиная часть населения СССР мысленно не принимала официальную линию партии), сколько «инакословие». «Границы моего языка определяют границы моего мира», – заметил Людвиг Витгенштейн. Исследования филологов советской языковой ситуации показывают, насколько тесным был мирок Homo soveticus. Для человека, живущего в ситуации тоталитарного режима, постоянных репрессий, свобода слова была непозволительной роскошью. В результате произошёл катастрофический разрыв сознания, мысли и её словесной артикуляции, оформления. Вследствие этого язык, заточённый в оковы штампов, идеологем и мифологем, деградировал. Режим породил уродливый новояз, изобилующий аббревиатурами, сращениями, нередко скрывающими ужасную реальность (как, например, загадочные «б.п.п.» в официальных извещениях означали: «без права переписки», что служило синонимом слова «расстрел»), позже появился т.н. лицемерный «словесный камуфляж» (тот же расстрел заменяли «высшей мерой социальной защиты» и пр.). Негативно на языке сказался и сам факт миллионных репрессий, «обогативший» его лагерным жаргоном. Среди этой словесной пустыни лекции Сергея Сергеевича Аверинцева стали настоящим событием: где ещё можно было послушать безукоризненный неизуродованный русский язык, сохранивший традицию ещё 19 века (унаследованный от отца, помнившего ещё своего однокашника Сергея Маковского), лексику Отцов, речь, освещённую глубиной и жизнью и пр.?! Это был потрясающий жест свободы!
«Дух бодр, плоть же немощна» (Мк. 14:38), – это евангельское высказывание удивительно точно подходит к Сергею Сергеевичу. Его современники отмечали слабое здоровье мыслителя. До 5 класса из-за болезни Аверинцев не посещал школу. «Отравленный в школьные годы антибиотиками, его организм утратил сопротивляемость, так что малейшая простуда нарушала жизнедеятельность всего организма» (Т. Миллер). В зрелые годы страдал от слабого сердца (итогом чего в мае 2003 года стал обширный инфаркт, после которого Сергей Сергеевич после почти 10 месяцев комы скончался). Вместе с тем он никогда не делал себе никаких поблажек, трудился до изнеможения (Бибихин в дневниках пишет, что ночная работа над текстами статей доводила нередко Аверинцева до приступов рвоты). Поражала сила его воли, решимость свидетельствовать о правде.
Он никогда не был бунтарём в сентиментальном смысле этого слова. К самой форме протеста всегда относился очень осторожно, не приемлил бунт самозацикленного подростка модернизма, постмодернистского протестного кривляния ребёнка. Вместе с тем Седакова называет главным message творчества Аверинцева – «борьбу против варварства в любой форме». Сам мыслитель часто повторял о необходимости «нарушать общественные неприличия». Таким «нарушением», например, была статья в V том «Философской энциклопедии», издания жутко идеологизированного и костного, «Христианство», которую известный российский богослов прот.Виталий Боровой назвал «апологетическим подвигом» и предложил за неё канонизировать ученого. Сергей Сергеевич Аверинцев в речи памяти учителя А.Ф. Лосева как-то сказал: «Времени нужны не те, кто ему, времени, поддакивают, а совсем другие собеседники». Сам мыслитель никогда не был пленником «духа времени». Само его обращение к христианской, византийской проблематике противоречило логике эпохи. Мыслитель не скрывал своей принадлежности Церкви (был даже анагностом, т.е. чтецом), хотя считал недопустимым для себя, как учёного, превращать научные статьи в проповеди. Говорил, что лучшее свидетельство христианина – сообщение фактов, правды. Чем закономерно вызывал недовольство начальства. Как-то его вызвал «на ковёр» после «возмутительной» публикации в сборнике «Византийская литература» средневековой религиозной поэзии в переводах завотделом зарубежных литератур и сказал: «Не за то вам деньги платят, чтобы вы правду писали». Эти слова вызвали даже некоторое одобрение Аверинцева своей прямотой: «Хорошо, что все так определенно. Официальная идеология сама себя признавала основанной на лжи». Для Аверинцева в ситуации удушливой лживости и бесчеловечности тоталитарного режима, когда «палкой не умирать учили» (Пастернак), христианство оказалось тем основанием, которое давало человеку почву под ногами и позволяло выстоять: «То, что представлялось в благополучные времена почтенной, но не совсем жизнеспособной традицией, оказалось в экстремальных условиях крепче всего. В самый разгар тоталитарного режима, когда иные ценности и устои не выдерживали натиска, держалось одно тихое мужество веры», – писал он в работе «Христианство в 20 веке».
Надо сказать, что свой путь к христианству Сергей Сергеевич во многом начал благодаря античным филологическим штудиям. Именно отец, дореволюционный профессор биологии Сергей Васильевич, привил сыну любовь к классическим языкам (например, читал маленькому Серёже Горация на языке оригинала), позже классическими языками занимался в школьные годы, окончил филфак по специальности «классическая филология».
Аверинцев рос среди «врагов народа», но семья всё же была безрелигиозная. Первый церковный опыт – 1946 год, когда друг семьи повёл маленького Серёжу Аверинцева на пасхальное богослужение в Троице-Сергееву лавру. Знаковым событием стало в 1966 году в Киеве посещение Софии Киевской, которое стало в некотором роде поворотным в творческом пути Аверинцева, вдохновило на написание известнейшей его статьи «К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской». Это было нечто большее, чем просто обращение к софийной тематике (мыслитель всегда подчёркивал свою непричастность к софиологии, интересующейся Софией как «Вечной Женственностью» или «четвёртой импостасью»). Это было начало обращения к проблематике «метафизического изоляционизма», зарождение Аверинцева как религиозного мыслителя.
Нельзя не отметить те влияния, под которыми формировалась религиозное мировоззрение Аверинцева: это К.С.Льюис, Д.Толкиен и митр.Антоний Сурожский. С последним Аверинцев был знаком лично, с ним советовался и беседовал. Владыка Антоний был близок Аверинцеву своей идеей личной Встречи Бога и человека, своим богословием общения (не случайно именно к этой богословской традиции причисляют современные украинские исследователи религиозное наследие Сергея Сергеевича). Сам Аверинцев неоднократно с трепетом в своих работах, интервью упоминает Блума. «Хотя Владыка Антоний Блюм, уже упоминавшийся мною, неоднократно приезжал в Москву и служил в московских храмах и раньше, только в 70-е годы его появление становилось каждым раз событием для верующей интеллигенции в целом; в особенности после перерыва, вызванного временным запретом посещать СССР. Никогда не забуду, как я добирался к храму в троллейбусе по не очень хорошо известным мне восточным районам, и на мой вопрос к соседу, скоро ли такая-то остановка, получил в ответ хором от всего троллейбуса: «Сергей Сергеевич, мы же все туда!» – и как после литургии Владыка сам вышел с крестом, мы сотня за сотней подходили к нему, и он на каждого смотрел острым и проницательным, неутомимым взглядам, словно каждый из нас был единственным...»
Парадоксально, но крестился Аверинцев сравнительно поздно, 6 октября 1973 года вместе с супругой на одной из частных московских квартир у о.Владимира Тимакова (само Таинство Крещения он рассматривал как итог длительного пути катехизации). В мае 1975 Сергей Сергеевич и Наталья Павловна обвенчались в Тбилиси. Жизнь Аверинцевых была немыслима без участия в литургической жизни: как минимум каждое воскресенье старались бывать в храме (например, в Брюсовском переулке, где служил митрополит Питирим (Нечаев). Традиционным было посещение храмов перед каждой иногородней (иностранной) конференции. Сама Церковь признавала его «своим». В этом смысле показателен трогательный эпизод, упомянутый Т.Миллер: «Помню, с каким всепоглощающим вниманием, весь превратившись в слух, ловил он каждое мое слово, когда я делилась с ним своими впечатлениями о посещении Псково-Печерского монастыря, о старце (иеросхимонахе Михаиле), чья плоть была бела, как белильщик не может выбелить, как, глядя на него, я воочию созерцала преображенную плоть и начинала понимать, что в действительности значит Фаворский свет. В 1974 году Сергей Сергеевич уезжал на конференцию в Тарту, и я его уведомила, что из Тарту в Печоры ходит автобус. По возвращении в Москву он с таинственным видом сообщил мне: «Никому не говорите, надо мною будут смеяться! Я пек просфорки!». А дело было так: уважаемый ученый, Сергей Сергеевич Аверинцев в три часа ночи сел в Тарту на автобус, в пять прибыл в Печоры, вошел в монастырь, встретил там монаха, который скомандовал: «Иди, помогай печь просфоры». И Сергей Сергеевич пошел помогать печь просфоры. И успел вернуться в Тарту к положенному для заседаний времени. В этом эпизоде я увидела ясный знак того, что Церковь принимает Сережу как своего, и поэтому с радостью повторяла: «Как хорошо, как хорошо, что Вы пекли просфоры, что Вам это доверили!»»
Аверинцеву Церковь доверяла не только выпечку просфор. Митрополит Питирим предлагал учёному заняться новым переводом Евангелия (перевод Евангелия от Матфея и комментарии к Евангелиям от Марка и от Луки, переводы псалмов будут опубликованы значительно позже, в частности в 2004 году киевским издательством «ДУХ І ЛІТЕРА»). Митрополит Кирилл регулярно приглашал Аверинцева прочитать курсы лекций в Ленинградскую Духовную академию (что также «регулярно вызывало недружественную реакцию у чекистов»).
Размышляя над тем, что «дало самому Сергею Сергеевичу вхождение внутрь церковной ограды?», Т. Миллер приводит слова его самого: «Я думал, что простота уже никогда не вернется, и вот она начинает возвращаться!». Те, кто знаком с христианским учением о человеке, понимают глубокий смысл слова «простота». И от себя добавлю: свободу. «И Истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31-32). Обращение в христианство, начало византийских штудий Аверинцева, по замечанию близко знавших Сергея Сергеевича людей (Е.Б. Пастернака) даже внешне по-доброму раскрепостило очень застенчивого и робкого учёного, который прежде традиционно по 5 минут извинялся перед тем, как что-то начать говорить (хотя до конца дней мыслитель предостерегал от опасности заносчивой самоуверенности в собственной позиции). Для Аверинцева христианство стало той возможности внутренней свободы, которая может актуализироваться даже в условиях тоталитарной системы, возможности голоса в условиях тотальной немоты, возможности услышать подлинное даже в ситуации постсоветского информационного шума и духовного релятивизма.
Анна Голубицкая